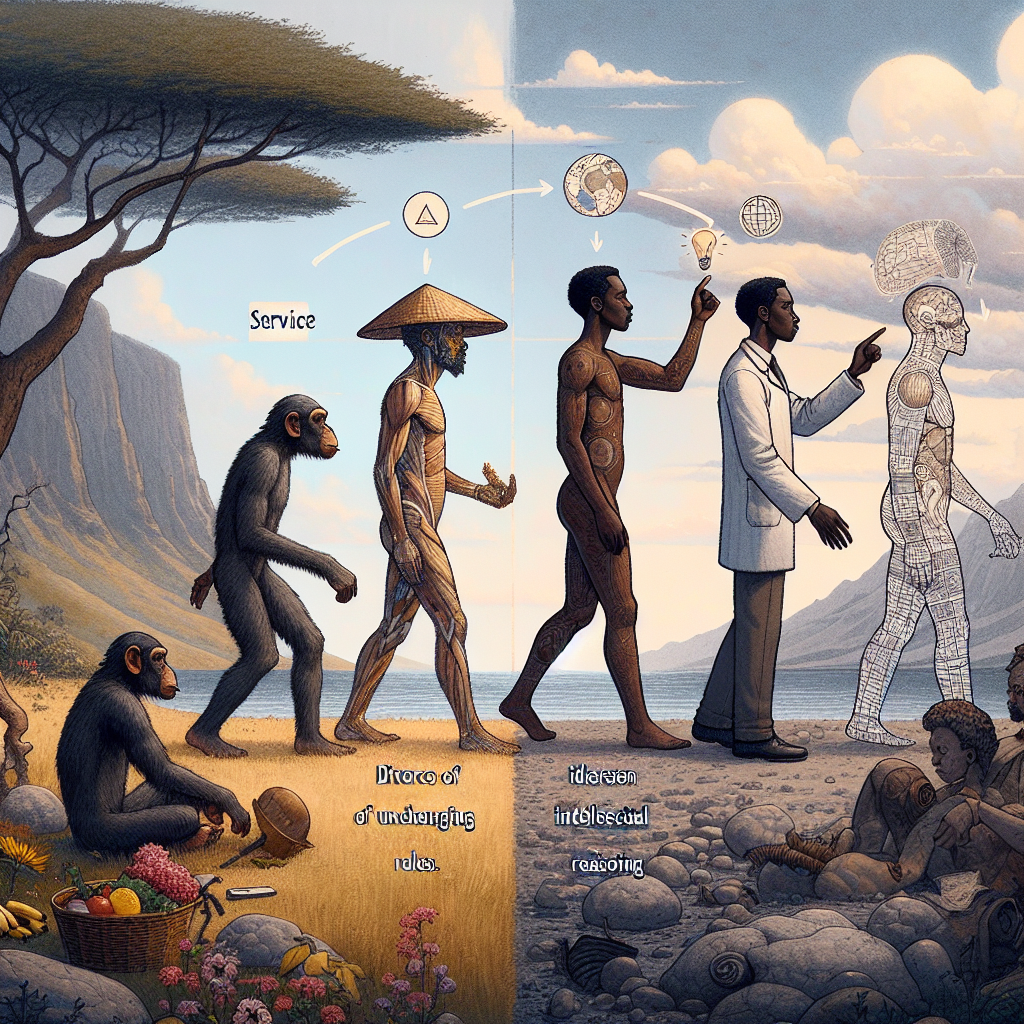«По вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29) К религиозной вере можно подходить с разных сторон, в том числе и видеть ее как явление антропологическое, социокультурное. Как набор влиятельных идей, в течение веков создающих фоновую «картину мира» и основные черты «народного характера».
Религиозная вера — в качестве установочной матрицы, задающей представления о важнейших вещах на самом расхожем уровне. Важнейшие три вещи, о которых думает всякая религия: бог, человек и окружающий мир. Но как выстраиваются отношения между этими тремя — для каждой конфессии это уже свое.
Говоря о русском православии, следует заметить: речь не может идти о православии вообще, в целом, — ибо такого православия «в целом» просто не существует. Как и никакой другой религиозной веры не существует как феномена, который можно рассматривать в отрыве от людей и институтов, его представляющих. Есть православие Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, Иоанна Грозного и митрополита Филиппа, патриарха Никона и протопопа Аввакума, протоиерея Всеволода Чаплина и о. Александра Меня — и это все совершенно разные, по сути — антагонистичные друг другу «православия».
Поэтому, если мы говорим о религиозной вере как о явлении, связанном с формированием «народного характера», т.е. как о явлении максимально расхожем, массово ориентированном, то здесь имеются свои ведущие особенности, свой мейнстрим. И этот мейнстрим, разумеется, не будет включать в себя «богоискателей-одиночек», видящих параллели между иконами Рублева и платоновской философией.
Ведущее русско-православное наставление, которое обращено не к избранному «богоискателю», но к самым широким образом понимаемому «народному человеку», — можно увидеть так: бога почитать исключительно правильным образом, по святому уставу и без своеволия; мир же, православного человека окружающий, — всегда воспринимать с опаской и недоверием.
Речь не о том, чтобы познавать бога мистической интуицией или разумом, но чтобы отдавать ему себя в полное, согласованное с уставом и не звающее вопросов услужение. Не исследовать мир и не удивляться ему, но строго регламентировать с ним все связи, чтобы не подхватить присущую миру «скверну».
Услужение и недоверие. Недоверие, в первую очередь, обращено к тем идеям, что не входят в установленный канон и принадлежат другим традициям культуры и веры. Сформированное под влиянием русского православия понятие «иноверец» в семантическом поле русского языка всегда звучало если и не как прямо враждебное, то определенно как указание на нечто подозрительное и, в конечном счете, уничижительное.
Так, в течение нескольких веков Московского царства практически всякий иностранец, за исключением, понятно, православных византийцев, — воспринимался со всеми негативными атрибутами «иноверца». Английский дипломат Джайлс Флетчер, прибывший в Московию в 1588 году с коммерческой миссией и составивший известные культурно-исторические записки, отмечал как удивительную для него особенность жесткую изоляцию русского мира от самих принципов просвещения и вообще от знакомства с большим миром. По его наблюдениям, читать и писать учатся весьма немногие, а иностранцам «из какой-либо образованной державы» не дозволено приезжать в Московию, иначе как лишь по торговым делам.
В 1589 году государевы слуги планируют перевод всех иностранных купцов на постоянное жительство в пограничные города, чтобы не допустить приезжих во внутренние области государства: «дабы они не завезли к ним иные обычаи и свойства, нежели какие они привыкли видеть у себя». Английский дипломат увидел во всем этом определенную цель, преследуемую властями: «…Чтобы легче было удержать людей в том рабском состоянии, в каком они теперь находятся, и чтобы они не имели ни способности, ни бодрости решиться на какое-либо нововведение. С тою же целью им не дозволяют путешествовать, чтобы они не научились чему-нибудь в чужих краях и не ознакомились с иными обычаями». (Джайлс Флетчер «О государстве Русском») Да, с дипломатом Флетчером нельзя не согласиться, ибо всякий деспотический режим стремится к изоляции своих подданных и не допускает «инакомыслия».
Но следует учитывать и воздействие русского православия, которое бескомпромиссно отрезало «нашу веру» от всех других, в том числе, христианских конфессий. Тем самым в «народном представлении» создавалось, с одной стороны, убеждение в собственной избранности, а с другой — в неправедности всякого «иноверца».
Относительно коренного населения русских земель у исследователей, антропологов и генетиков сложилось устойчивое мнение, что азиатский элемент в нем практически отсутствует. Об этом можно посмотреть, к примеру, обобщающую работу О. Балановского «Изменчивость генофонда в пространстве и времени». Не оставил генетических следов даже тот исторический период, что именуется монголо-татарским игом. Это вполне объясняется из контекста православного отношения к «иноверцам». Так, начиная со времен Крещения, с Х века, — православные русские практически никогда не роднились с кочевниками, несмотря на то, что это были самые близкие их соседи. Браки с «погаными», т.е. язычниками, были совершенно невозможны, ибо всем брачным ведомством распоряжалась церковь. Исключение составляли семьи князей, но это были союзы из чисто политических нужд. Хотя и здесь подобное считалось редкостью. А уже в Московском царстве совершенно исключились браки с представителями вообще любой «иноверной» религии, в том числе и христианства всех иных конфессий. Более того, запрещалось ношение одежды «иноверного» покроя, и, в том числе, на знаменитом законодательном соборе «Стоглаве» (XVI век) для православных мужчин был введен запрет на бритье бороды. Взрослый мужчина, не носивший бороду, приравнивался не только к «иноверцу», но и к «содомиту».
Даже при освоении русскими переселенцами дальних земель Урала, Сибири и Дальнего Востока ассимиляции с местным населением не происходило. Переселенцы жили замкнуто, и с местными не было практически никаких связей, кроме налогообложения и торговли. Естественно допустить, что «инородные» контакты между мужчинами и женщинами, конечно же, случались, — но это не оставило заметных последствий. Такие связи считались «союзом греха» и крайне редко приводили к браку. Особенной замкнутостью отличалась весьма многочисленная категория переселенцев — «староверы», среди которых связь даже с представителями официального православия РПЦ считалась невозможной. Лишь к началу XIX века брачные законы Российской империи стали допускать браки православных с лицами из другой веры. Впрочем, это был неполноценный брак, без «венчания». О нем делалась запись в книгах «гражданского состояния», то есть это был светский союз, — что для церковного понимания продолжало, по сути, считаться «союзом греха».
Когда в основе лежит недоверие и презрение к «иному», то, при определенных обстоятельствах, — это может доходить до принципиального вычеркивания «иных людей» из категории «людей». В конце 90-х годов один военный, служащий в «горячих точках» того времени, — рассказывал о полковом священнике, «батюшке», который время от времени подходил к пулеметному расчету и обращался: «Дай, сынок, я по иноверцам постреляю». А получив согласие, открывал огонь в направлении ближайшего горского аула, где предполагалось присутствие противников, «иноверцев».
Однако русско-православный «народный человек» не доверяет не только различным «иным», но, собственно, и сам себе — своей способности к разумению и пониманию. Понимать высокие метафизические вещи из «самого себя», из собственного разума — это непозволительно по канону его веры. Тщеславное и греховное «парение ума». На место разума в православной картине мира встает непререкаемый авторитет «святых отцов».
Как следствие, в русском православном дискурсе даже за столько веков не возникло такого направления, как религиозная философия, — ибо философия всегда предполагает индивидуальную работу ума, гипотетичность, дискуссию. Не появилось и такой литературной формы индивидуального «духовного становления», как исповедь, где представлялись бы сомнительные, слабые и темные стороны верующего человека, — наподобие «Исповеди» Блаженного Августина. Преоблад