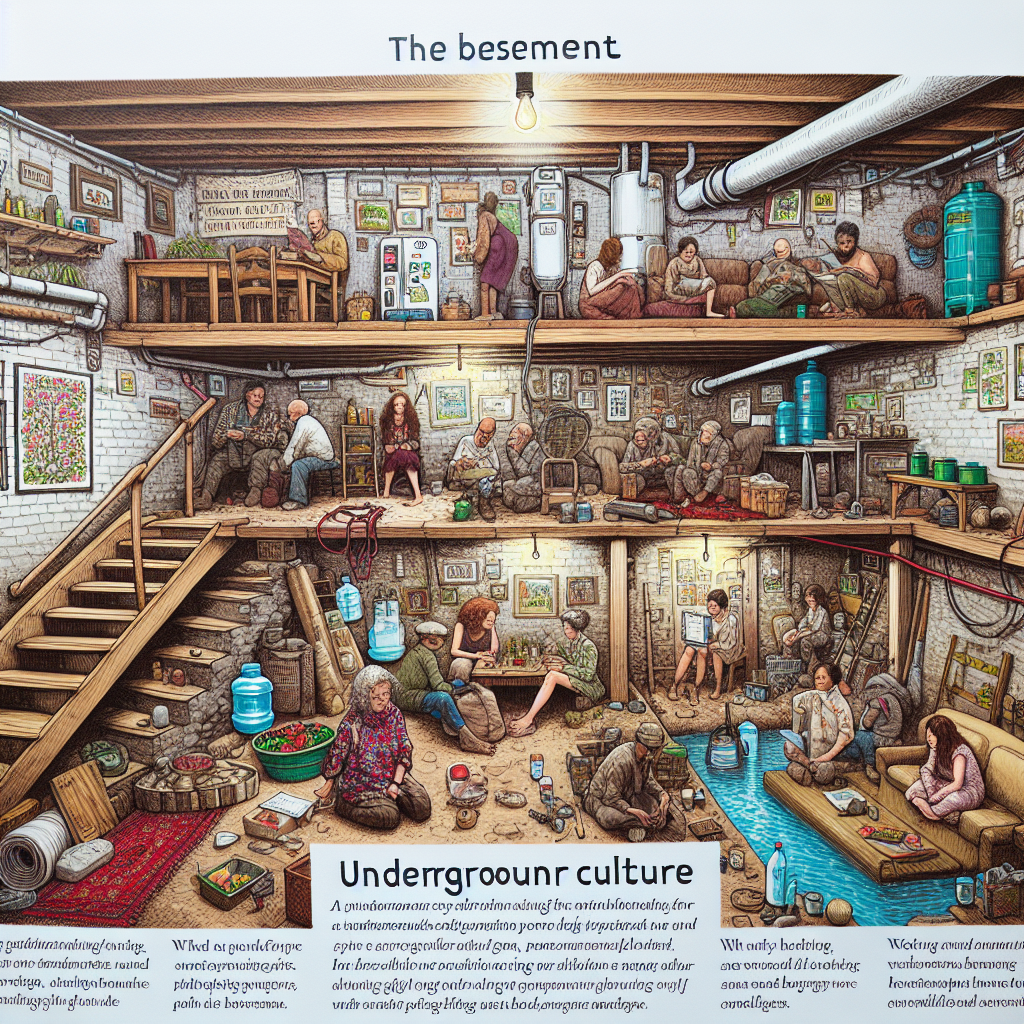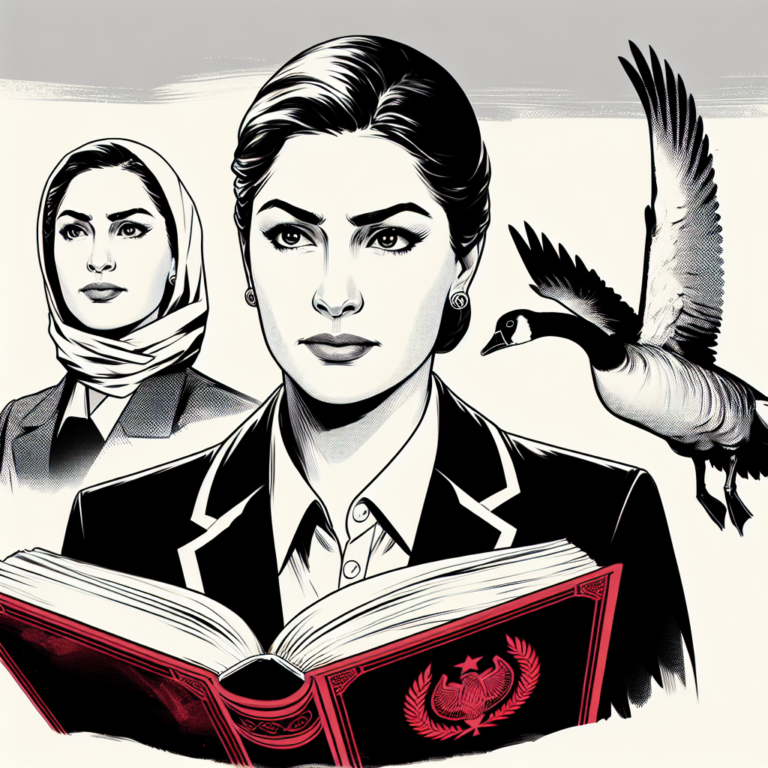Галерея художников “Север-7”. Фото: соцсети “Север-7”.
Неприметная дверь во дворе. Ступеньки вниз, на цокольный этаж. Полумрак входной зоны, с порога ощущение обжитого пространства, обитатели которого невзыскательны и гостеприимны.
После прихожей попадаешь в основной зал, где завсегдатаи, общаясь между собой, как кажется, совершенно не обращают внимания ни на тебя, ни на то, ради чего ты сюда пришел.
Картины и картинки, если это экспозиция, становятся частью интерьера, в атмосфере которого разворачивается множество диалогов. Музыкальные инструменты подготовлены и неприкаянно стоят или лежат у стены, в то время как на них, кажется, никто, включая самих музыкантов, даже не смотрит.
В воздухе повис запах табака, хотя никто вокруг не курит, а возле стен, сбиваясь в небольшие компании, стоят задумчивого вида молодые люди и вполголоса обсуждают что-то, пробуя разлитое по бумажным стаканчикам красное вино.
Потом внимание переключается на вещающего куратора или на представляющихся музыкантов, начинается более пристальное всматривание/вчитывание/вслушивание, длящееся или тянущееся, а затем вечер плавно возвращается к тому, с чего начинался.
Так, в общих чертах, представляется атмосфера любого “невидимого” художественного пространства – места, установившего свои границы в пределах подвальной или чердачной комнаты или серии комнат, скрытого от посторонних глаз и в то же время открытого для того, кто завернул в этот затененный уголок на карте городского культурного ландшафта в поисках новых впечатлений и знакомств.
Независимых площадок в Петербурге несколько, и объединяет их то, что кроме концертов там периодически проходят выставки, кинопоказы, лекции и просто спонтанный обмен идеями. Одно из этих мест – бывшая самоорганизованная галерея художников из петербургской группы “Север-7”.
После своего распада группа оставила пространство, но благодаря отдельным энтузиастам это место не перестало быть творческим кластером, где практически каждую неделю проходят электронные live-выступления, а недавно проходил длящийся несколько дней фестиваль-воркшоп, где все желающие могли как вслушаться в окружающие акустические ландшафты, так и собрать собственный музыкальный инструмент.
Галерея художников “Север-7”. Фото: соцсети “Север-7”.
Другая площадка никогда не меняла своего назначения, но несколько раз переезжала с места на место, и сейчас находится на цокольном этаже дома в одном из старых петербургских районов. Там звучит экспериментальная электроакустическая музыка, а “само место больше всего напоминает обжитую, несколько сумрачную квартиру-студию с книжным шкафом, сервантом и длинным столом, вокруг которого собираются между выступлениями как музыканты, так и публика.
Интересна судьба еще одной широко известной в узких кругах площадки – киноклуба “Люмьер”, несколько лет назад прекратившего существование под этим названием. Более пятнадцати лет киноклуб был местом встреч и знакомств совершенно разных людей, площадкой не только для просмотра, но и для осмысления и обсуждения мирового авторского кино, обращения к малоизвестным музыкальным течениям.
Он располагался в старейшей петербургской арт-галерее “Борей”. Эта галерея, которая сама привечала и привечает у себя не одно поколение петербургских и ленинградских художников, не смогла решить с киноклубом финансовый вопрос и была вынуждена с ним попрощаться.
Интересно то, что, несмотря на такое положение дел, новые воплощения клуба продолжают жить – благодаря бывшим посетителям. Слишком много “потерянных” молодых и не очень людей “Люмьер” приютил, слишком многим думающим, но неприкаянным дал возможность почувствовать осмысленность жизни.
Теперь киноклуб постоянной площадки не имеет и мыкается по разным помещениям, и за его перемещениями возможно следить через телеграм-канал – но сам факт того, что он продолжает существовать, хоть и исключительно на голом энтузиазме, доказывает, что потребность в независимых культурных практиках, в площадках для обсуждения, разговоров и понимающего молчания, “вытаскивания” себя из повседневной рутины, велика.
Киноклуба “Люмьер”. Фото: соцсети “Люмьер”.
Историк искусства и куратор архива музея “Гараж” Саша Обухова в одной из своих лекций говорила, что независимые объединения появляются из-за недостатка официальных площадок для современного искусства.
Реже они возникают как ответ на критику художественных институций. В сущности, эти две причины могут сосуществовать и быть связанными не только с визуальной культурой – живописью, медиаартом – но и с работами в области звука, потому что современные звуковые практики – импровизация, саунд-арт – предполагают пространство особой сборки и работу с атмосферой внутри него.
Галереи, настроенные на продажи искусства, концертные площадки, живущие на продажи билетов, и тем более государственные институции далеко не всегда проявляют гибкость или просто желание, необходимые для того, чтобы такое искусство в себе уместить.
Но в пространствах, которые все-таки могут это сделать, существует явная потребность, и когда мы говорим о независимых площадках, речь идет не только о неких “засекреченных подвалах”, предназначенных для экспериментов художников и музыкантов, но о местах, где люди – молодые и не очень, настроенные на личное сопротивление повседневности – стремятся найти ключи к реальности.
Саша Обухова. Фото: соцсети.
Эта реальность, состоящая из множества нарративов – политического, экономического, социального, культурного, – все время давит на человека и убеждает его в том, что другой реальности для него быть не может.
В таких обстоятельствах люди предсказуемо ищут стратегии поведения, нужные для выживания и сохранения себя.
Советский опыт показал, что для многих граждан Союза такой стратегией стала комбинация конформизма и “кухонь”: стремясь к безопасности, люди жили по правилам советского режима, встраиваясь в социально-трудовой механизм, но периодически позволяли себе выпустить пар и поворчать насчет окружающей действительности, сидя в четырех стенах своей кухни.
Была, как мы помним, и другая стратегия – двойная жизнь, которой жили многие представители творческой интеллигенции СССР: работая в качестве маляров, сторожей, кочегаров, они протестовали через свою музыку, через свои картины или через свои тексты.
Так, благодаря отстранению от повседневности, жили московские художники-концептуалисты, создававшие ироничные произведения, пересмеивающие советскую визуальную пропаганду.
Художники – Илья Кабаков, Виталий Комар, Александр Меламид, Леонид Соков и другие – рассматривали окружающие их реалии не как угрожающее поле “влипания” в идеологию, а скорее как пространство для изучения и осмысления.
Многие из этих художников параллельно работали иллюстраторами детских книг, находясь, таким образом, на наиболее безопасной (то есть наименее подцензурной) территории советских художественных практик.
Подобным отстранением от реальности занимались и ленинградцы – Иосиф Бродский или творчески далекий от него Леонид Аронзон – но в случае с ленинградской поэзией ситуация была печальнее, чем с московским искусством: шансов напечататься было крайне мало, и прожить именно литературным трудом не удавалось, а над поэтами все время висел дамоклов меч статьи за тунеядство.
Современная Россия, культурно-политическое обращение которой в сторону советской эпохи стало ощутимо с середины 2010-х годов, все время подталкивает к таким сравнениям и аналогиям.
Скажем, еще в 2021 году в Третьяковской галерее в рамках выставки “НЕНАВСЕГДА. 1968–1985” искусствовед Кирилл Светляков и художник Ирина Нахова спорили о природе советских андеграундных практик.
Их точки зрения во многом не сходились, они были воплощением опыта “изнутри” и “извне”. Но, несмотря на разницу в видении, точкой согласия для них стала мысль о том, что занятия искусством, так же как и практики его исследования, и сегодня становятся способом самозащиты от внешних катастроф.
Разница в оптике, как в случае с экспертами, дискутировавшими в Третьяковской галерее, влияет на восприятие этих способов самозащиты – так, с одной стороны, не имея опыта существования в андеграунде, можно смотреть на него презрительно или снисходительно, как на попытку к бегству, а на подпольные выставки, концерты и читки – как на симулякры реального сопротивления.
Но при взгляде изнутри мнение может измениться: в уже упомянутой дискуссии художница Ирина Нахова отметила, что организация квартирных выставок, создание отдельных работ, обсуждение подпольного искусства с такими же “собратьями по несчастью”, даже банальная перестановка мебели и изменение внутреннего пространства комнаты – это как раз то немногое, что реально мог сделать ограниченный в сп