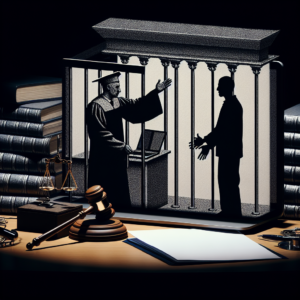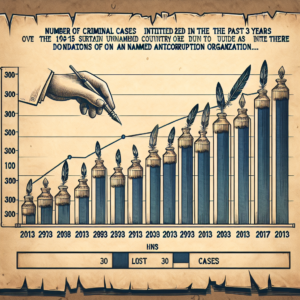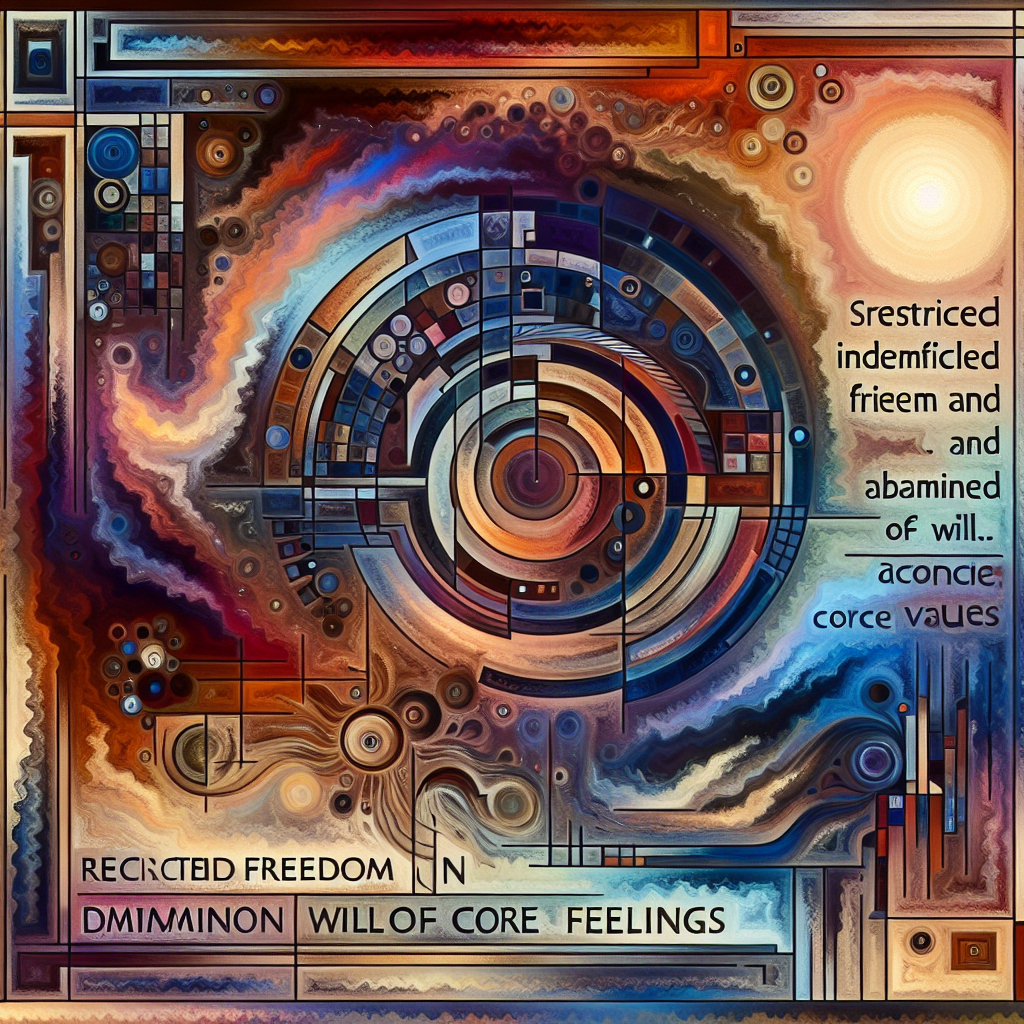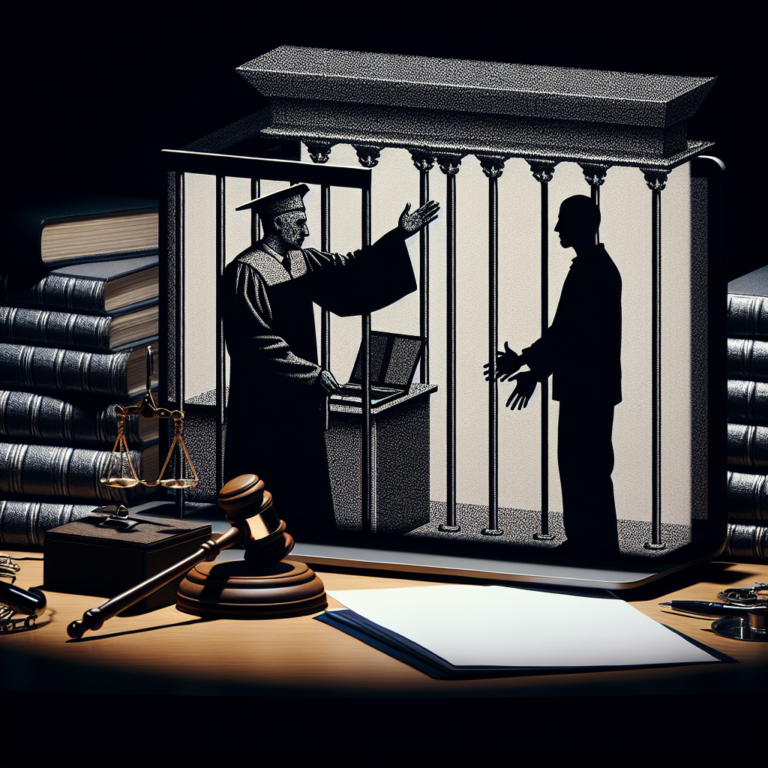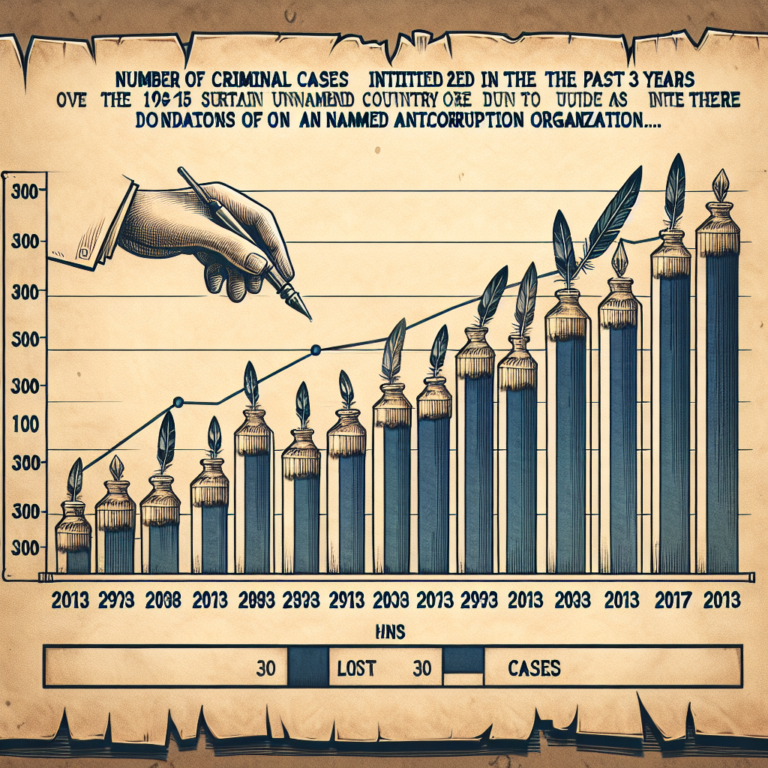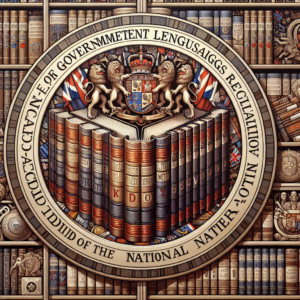Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ.
То, что эмоции неотъемлемы от полноценной жизни, казалось бы, очевидный факт. При этом, как и другие проявления «человеческого», они получают разные отражения и неоднозначную оценку в культуре.
Даже не углубляясь в культурную археологию, можно сказать, что чувственность, сексуальность, телесность вызывали разное отношение в эпоху Античности, в Средние века, в Новое время, в постмодерне.
Более того, сложно говорить об отношении к «чувственности» и «сексуальности» в Древнем мире, уже потому, что сами эти явления попадают в фокус культурной рефлексии только в христианской культуре.
Так же обстоят дела и с эмоциональностью: очевидно, что мировоззренческий рационализм Просвещения, эпоха сентиментализма, европейский романтизм и психоанализ по-разному определяют их место в жизни человека, по-разному соотносят с познанием и образом идеального социального типа.
При этом важно понимать, что все исторически сформировавшиеся подходы к соотношению «разум — чувства, тело — душа» представляют собой продукт социального проектирования в ответ на объективный исторический запрос.
Иными словами, отсутствие конкретного понятия или артикулированной ценности не означает отсутствия соответствующего им явления в реальности.
Общественный разум высвечивает в потоке непосредственного существования лишь то, что соответствует требованиям исторического развития.
Чувства и эмоции — следствие эволюции человека. Говоря о ценности, также необходимо не упускать из вида, что активное словоупотребление в публичном дискурсе, по историческим меркам, началось не так давно, и это тоже является отражением определенных изменений, происходивших с обществом на определенном этапе.
Общество в целом, как и отдельный человек, «дозревает» до ценностного отношения к миру.
Действительно, оформление ценностного познания, переход к мышлению в категориях ценности становится значительным шагом вперед в развитии не только философской теории, но и культуры.
Отличительная черта ценностного мышления — плюралистический взгляд на мир в соответствии с пирамидой ценностей, в которой есть место и этическим, и эстетическим, и истинностным ценностям.
Класс ценностей эмоциональных при этом все еще остается не выделенным.
Что же заставляет нас говорить о необходимости артикулировать «эмоциональную ценность» и почему в условиях гуманитарного кризиса, свидетелями которого мы являемся уже не первое десятилетие, проявляется важность понятийного объединения «ценности» и «эмоций»?
Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Интерпретируя реальность, закрепляя наши представления о том, какой она должна быть, мы тем самым управляем ею. В этом смысле закрепить понятие «эмоциональная ценность» в общественном сознании означает начать ее культивировать.
Эмоциональная ценность и «успешный человек». Между тем само отсутствие в публичных дискурсах «эмоциональной ценности», а в гуманитарной науке такого термина, как «ценности эмоционального ряда», весьма показательно.
Экономический тоталитаризм в сочетании с технократией порождает очень односторонние ожидания относительно образа социально успешного человека.
Эта тенденция возникла не сегодня, и, если бы перед нами стояла такая цель, пришлось бы здорово углубиться в процесс перерождения ренессансных идеалов «свободного творца» в культ эгоиста с калькулятором в голове, каким, по сути, становится европеец, выпестованный протестантизмом, в эпоху развитого капитализма.
Подкрепленный успехами науки и техники, этот тип остается и по сей день вне конкуренции: он герой современности.
От немецкого романтика Гофмана до русского романиста Ивана Гончарова «мыслящее сословие» ставит под сомнение уравнивание «социально успешного человека» с бесчувственным автоматом или рассудочным дельцом.
В ХХ веке в книге «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» Конрад Лоренц, продолжая эту линию, пишет о «тепловой смерти чувства»: современный европеец, с его точки зрения, изнежен настолько, что боится любых сильных чувств и в итоге утрачивает способность к ярким эмоциям как таковым.
В обществе закрепляется стереотип: эмоциональный — значит, уязвимый, страстный — не способный действовать рационально.
Однако эмоциональные реакции означают для нас момент личной значимости происходящего. Как следствие, необходимо признать: рисуя идеал буддистской «невовлеченности», мы «продвигаем» эмоциональную недоступность других как социальную норму, а вместе с тем их фактическое отсутствие «здесь и сейчас», в том числе, в социально обусловленной коммуникации.
Эмоции и свобода. Показательно, что все древние этические системы, ориентирующие человека на невозмутимость, вплоть до апатии и отрешенности, подразумевали «бегство от мира». В архаическом — равно катастрофическом — мире это действительно могло быть единственным способом самосохранения.
Однако в данном случае речь идет об относительно благополучной части земного шара на рубеже веков. Если же мы обратимся к истокам формирования представлений о соотношении телесного и ментального, мы увидим, что и здесь в разное время, в зависимости от уровня развития науки, дела обстояли по-разному.
Для античности была более характерна аристотелевская трактовка души как энтелехии тела, для христианского теолога она нечто акцидентальное, привносимое извне, для французских материалистов «душа» — продукт физиологии.
Сегодня все эти представления мы вправе считать устаревшими. Наука оперирует такими понятиями, как «высшие психические способности», не отделяя их от биологии головного мозга.
И тем не менее нашу ментальную жизнь мы ощущаем как состояния разной степени биологической обусловленности.
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ.
Человек, безусловно, детерминирован собственной физиологией, особенностями собственной психики, однако может преодолевать эту детерминацию — в ситуациях, когда мы оказываемся способны совершать свободный нравственный выбор вопреки собственной природе, к примеру, в актах альтруизма.
Связь между нравственным выбором и свободой в таком ракурсе наиболее последовательно обосновал немецкий философ Иммануил Кант, и это, с одной стороны, было большим теоретическим достижением.
С другой стороны, в том, какие аргументы для этого использовал Кант, по сути, это было шагом к схематизации нравственной жизни и упрощению соотношения в человеке чувственности, его психической и нравственной жизни.
Эмоции и долг. Логика у Канта была такой. Причиной безнравственных поступков является эгоизм, укорененный в чувственной, животной (что для Канта одно и то же) природе личности.
Чувство удовольствия-неудовольствия, производимое деятельностью органов чувств, чувственностью, по этой причине Кант связывает с эгоизмом, противопоставляя ему разумное начало.
Таким разумным инструментом регуляции отношений между людьми в его этике становится искусственно сконструированный принцип — «категорический императив», правило, неукоснительно следовать которому — моральный долг индивида.
По Канту выходит, что маркером морального содержания в поступке является его «невкусность»: поступки не по склонности не вызывают удовольствия.
И в этом есть резон. Гражданские отношения ставятся, таким образом, выше кровного родства, чувственных влечений и эмоциональных привязанностей, что в теории должно привести к формированию справедливого общества, а самой этической норме придать статус чего-то абсолютного, безотносительного.
С этикой Канта можно спорить по разным поводам, но в данном контексте имеет смысл обратить внимание, прежде всего, на однобокий взгляд Канта на чувственность, с которой фактически он обобщает всю эмоциональную сферу.
Мы можем испытывать раскаяние и муки совести, это не противоречит принципам этики долга, но радоваться собственной способности поступать правильно, морально — получается, неэтично.
Картина возникает крайне негуманная.
Противопоставляя разум и животное начало, проявленное в эгоизме, Кант был, бесспорно, прав. Однако одно обстоятельство он упускал из вида: что сама чувственность, как и сознание, — продукт длительной эволюции, в том числе культурной.
Само полноценное формирование когнитивного аппарата — это социально обусловленный процесс. Человеческие чувства, иными словами, — не примитивно биологическое, а социоприродное явление.
Мы научаемся чувствовать по-человечески в процессе воспитания, образования и культурного формирования.
Граница, пролегающая между ощущениями, которые мы получаем благодаря органам чувств, и эмоциональными состояниями, которые они порождают, весьма подвижна.
Ведь сознательная деятельность представляет собой сложный ансамбль состояний, красота и богатство которого определяются вообще никак не связанными с чувственностью, в ее примитивном виде, интеллектом, лежащим в основе саморефлексии.
Итак, ценность осознается в кризисные моменты. Соответственно, ставить вопрос о ценностном смысле различных явлений, имеющих отношение к эмоциям, нас подталкивает очевидная деградация эмоциональной культуры.
Деградация чувств. Значение э