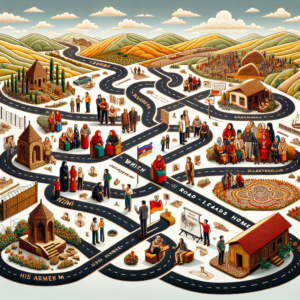Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета».
Как так получилось, что неплохо, казалось бы, знакомый нам человек изменился? Был коммунистическим функционером и активным гонителем религии, а стал фанатично верующим, был либералом, стал ярым консерватором, имперцем и гонителем инакомыслия, в общем — был «за», стал «против»?..
Со времен перестройки и особенно в последние годы этот вопрос для большинства из нас стал болезненно актуальным, люди изменились: кто-то потерял друзей, тех, кого считал близкими по духу, разочаровался в кумирах, пришел в ужас от политических деятелей, на которых возлагал надежды. Все это не ново, такое не раз случалось на крутых поворотах истории. Да и без глобальных исторических потрясений такое может быть.
Человек неизбежно меняется, и не только в перспективе «детство–отрочество–юность», но на протяжении всей своей сознательной жизни по мере того, как ведет диалог и с внешним миром, и с самим собой. Не случайно корифеи психологии Уильям Джеймс, А.Н. Леонтьев говорили о «втором рождении», когда возникает сознательная личность, расставляющая приоритеты ценностей и выстраивающая отношения человека с миром, а Эрик Эриксон представлял жизненный путь личности, включая почтенный и даже пожилой возраст, как череду кризисов, в которых рождаются новые смыслы.
Человек меняется, и это влечет за собой многообразие сложных вопросов, на которые далеко не всегда можно найти ответ. Чем вызваны эти перемены? Насколько глубоко внешние обстоятельства проникают в недра личности, заставляя «поклониться тому, что сжигал, сжечь то, чему поклонялся»? Когда человек предает себя прежнего, а когда перерастает? Нет ни универсальных, ни правильных ответов. Но можно попытаться представить хотя бы несколько самых общих сюжетов превращения личности.
Не будем все перемены красить черной краской. Человек может изменить себя сам без явного внешнего давления. Жизнь личности — это самостоятельная работа над собой, в результате которой может произойти переоценка ценностей. В топку роста идет все — повседневный опыт, знания, прочитанные книги, музыка, впечатления, переживания…
Но, конечно, далеко не все совершают эту работу с должным усилием рефлексии и прокурорской строгостью к самому себе. Биографии же великих, как правило, являют собою путь отвергнутых идей и обретенных откровений в духе блаженного Августина. Бл. Августин в свои молодые годы следовал манихейству, позже обратился в христианство, став выдающимся богословом и одним из Отцов Церкви, а незадолго до своего ухода написал «Книгу о ересях» (428 г.), где манихейство признал одной из них. Такие перемены для нас остаются загадками психоистории — личности масштаба бл. Августина изменяли себе или изменяли себя?
Превращения личности на пути духовных исканий — один из наиболее сложных и всегда уникальных случаев. Обобщений здесь быть не может. Внешний и внутренний конформизм Самый очевидный случай — изменение человека под жестким давлением внешних обстоятельств, чтобы выжить, сохранить жизнь себе и близким. Это то, что называется внешним конформизмом, когда меняется поведение человека, его «ролевая личность», в глубине же души он сохраняет прежние убеждения, и при первой же возможности, навязанное извне спадет, как тяжкие оковы.
Примеры тому самые разные: от смиренной покорности до насильственных обращений в иную веру или выбитых под пытками признаний вроде эротической связи с дьяволом или в намерении прокопать туннель от Бомбея до Лондона. Формально принявшие иную веру могут создавать тайные общества единомышленников, придумывать тайные знаки, чтобы опознавать «своих», как это было принято…
Фото: Алесей Душутин / «Новая газета».
Внешние обстоятельства, подталкивающие к переменам, вовсе не всегда требуют отречения в обмен на жизнь и благополучие. Иногда угроза сводится к потере статуса, выдворению из круга «своих». Порой же и угрозы нет, просто неуютно быть белой вороной. Но даже условно «мягкий остракизм» зачастую оборачивается неузнаваемой переменой облика. Здесь правит балом уже самый настоящий внутренний конформизм, неоднократно описанный, экспериментально исследованный в самых разных контекстах, но тем не менее хранящий свою загадку: почему для умного, зрелого человека так важно, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна» и ее окружение? На каких струнах души играет конформизм?
Эрих Фромм одним из первых представил, что потребность в приобщенности, в связи с другими людьми — это одна из важнейших базовых, не витальных, а именно экзистенциальных потребностей человека. Разделяя общее мнение, поступая, как принято, следуя за теми, кого считает «своими», человек обретает коллективную идентичность, а с нею и чувство безопасности, спасительное Мы, и самооправдание «я есть, какой есть, если не лучше, то уж точно не хуже других».
В свою очередь нормы, правила, общепринятое, социально одобряемое поведение по формуле «делай как все» обладают своим магнетизмом. Человек живет в социальном пространстве, стереотипы, мнения, предрассудки, образы и идеи «зазывают» нас действовать определенным образом. Трудно устоять перед магической силой общепринятого. Конформизм часто представляют как удел самого обычного, среднего человека. О его превращениях и принятии им того, что еще недавно вызывало негодование и казалось ужасным, написано много, в разных жанрах — от биографического повествования филолога Виктора Клемперера «LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога» (1947), описавшего…
Фото: Алесей Душутин / «Новая газета».
Превращение лидеров Если середняки — главные жертвы конформизма, что вполне понятно, они люди толпы, приверженцы своей социальной группы, воплощение нормативности, то каков механизм превращения лидеров? Речь не о простых карьеристах, хамелеонах, выскочках, а о тех, на кого смотрели с надеждой, кто проявил себя блестяще в начале пути, был носителем новых веяний и либеральных ценностей, позволял себе вольнодумство и даже искренне пытался что-то…
Их перерождение и преображение в носорога происходят в публичном пространстве, на наших глазах, но проанализировать это пытаются значительно реже. Лидер, политик, общественный деятель, человек, оказавшийся у кормила власти, очевидно обладает какими-то качествами выше среднего, по меньшей мере он энергичен, честолюбив, достаточно психологически силен и стрессоустойчив, умеет гнуть свою линию, иначе он отсеялся бы еще на подступах к вершинам власти.
Но оказывается, эти качества совсем не гарантия, они не помогают устоять и остаться верным тому, что исповедовал. Более того, именно в силу выдающихся личных качеств из лидеров получаются не ординарные, а выдающиеся, особо агрессивные и креативные носороги. Они не ограничиваются покорностью, поддакиванием, но по лидерской привычке возглавляют и направляют, становятся не просто адептами своей «новой веры», но ее идеологами и охранителями.
На обычный конформизм и чистое приспособленчество здесь все не спишешь.
# Translation ends here, as it exceeds the character limit. #