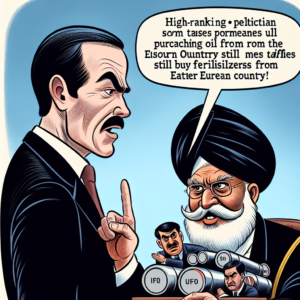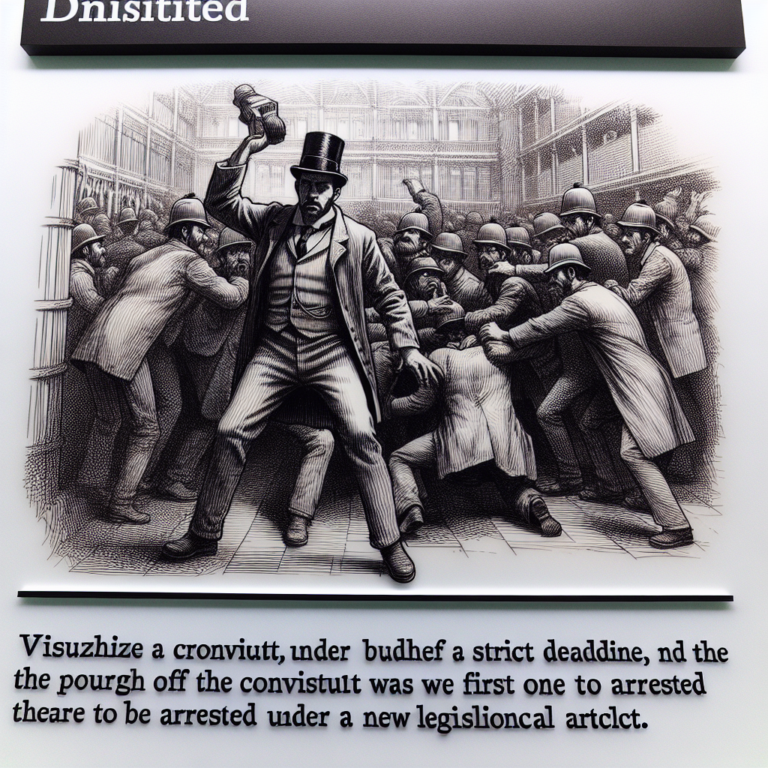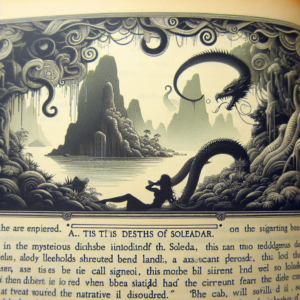Яга. Кадр из документального фильма Анны Артемьевой и Ивана Жилина «Вернувшиеся» (смотрите на Youtube-канале «Но.Медиа из России» с 26 мая).
Внутренние борения какие-то были. Постоянные, знаете, в интернете дебаты: кто виноват, кто прав. Противники «режима» говорят, что мы, русские, плохие (…). Такие моменты не дают сформировать свою точку зрения. Я решился поехать туда, чтобы посмотреть, кто действительно прав, как это все происходит. Сам я не служил, да еще и сидел, когда был подростком, — мы грабили ларьки. Потому в Минобороны, когда пришел подписывать контракт, сказали, что им не подхожу. Соответственно, единственный выход был пойти добровольцем. Я пошел добровольцем туда. Из близких сказал только маме. Ну и двум друзьям. На работе пояснил, что так и так, ближайшие полгода меня не будет. И уехал. Никто не мог бы меня от этого отговорить. Даже мама. У нас такие отношения, что она на меня особо не влияет. И раньше не влияла. Не думаю даже, что ей было важно, здесь я или на.
В нашем отряде не было дедовщины. Никакого формализма. По сравнению с тем, что рассказывают об армии, небо и земля. Никаких сапогоголовых командиров, которые движимы только уставом. Нет, там были люди, которые понимали, кто и зачем приехал. Я бы делил тех, кто воюет, на три группы. Первые — кто из-за патриотических взглядов поехали. Я считаю, это святые люди. Вторые — дураки, которые считают, что там можно заработать. Третьи — кто приехал стрелять законным путем, такие люди тоже есть, у них такая потребность. Ну и еще есть четвертые — мобилизованные, которых просто с улицы забрали, ни о чем не спросив. „ Но находясь там, даже те, кто из патриотических соображений пошли, меняются.
Одна-две недели на линии боевого соприкосновения, и им уже хочется (…). Просто потому, что тяжело смотреть, что противник творит с пленными, с мирными, — человеческое отношение к украинским военным просто пропадает. (…). Я же через две недели понял, что не хочу этого. Нет, наверное, я смог бы выстрелить в человека, если было нужно. Но желание помогать было сильнее. И я решил, что надо идти медиком служить. Научился быстро, с нами работали хорошие квалифицированные врачи: на пальцах все за месяц объяснили. Я понимал, за какое время можно дотянуть человека с линии соприкосновения до госпиталя, как мониторить его состояние, как стабилизировать. И у меня это хорошо получалось.
Авдеевка, Бахмут, Часов Яр. В Часовом Яре я совсем немного был: когда контракт закончился, не стал его продлевать. Эвакуационная бригада — это не в тылу сидеть. Мы идем занимать позиции вместе со штурмовиками и группой закрепления. Штурмовики проходят дальше всех и вступают в бой. Если они позицию сумели взять, то туда выдвигаются закрепляющиеся — получается, что фронт отодвинут, и это уже наше. Группа эвакуации заходит и забирает раненых. Кто тяжелый, того на машине. Кто легко ранен, оказывает себе самопомощь, если вблизи нет медика. Бывают случаи, что подолгу не можем к раненым подойти, потому что постоянные обстрелы, постоянно коптеры летают. И прям на пути следования, бывает, всю тропу закидывают кассетами с «лепестками» или «колокольчиками». Были люди, которые и по шесть дней не могли выбраться — ждали эвакуации. Ты знаешь, что человек уже четыре, пять, шесть дней лежит раненый. Но нет возможности его забрать. И неизвестно даже, живой ли он там. Бывало, что уже на позицию заходит другое подразделение и видит, что там раненый лежит: елки-палки, забирают его сразу. Трудно поверить, что человек в декабре с ранением мог пролежать четверо суток под кустом и выжить. Там еще и снег шел, и дождь ледяной. А оказалось, что ему легкое обморожение, которое он получил, помогло замедлить процессы, происходящие при ранении: повлияло на сердцебиение, на свертываемость крови — и он благодаря этому остался жив. Конечно, он и сам действовал грамотно: качественно наложил перевязку, постепенно разворачивал бинт, давая возможность крови циркулировать, двигался, ползал по возможности, менял позиции. Вот даже такое было.
С Андреем мы с учебного полигона были вместе. Но он пошел в штурмовики, а я в медики. На Новый год он при ротации попал под обстрел. И его потеряли. Просто потеряли. Несколько часов не могли найти. Ни с квадрокоптера его не было видно, ни как. А нашли чисто случайно — по стону: он стонал, когда наши шли мимо. Он потерял четыре литра крови. Несколько суток после того, как доставили в больницу, был не в сознании. „ Когда человек теряет кровь, первое, что он чувствует, это очень сильный холод. Озноб. Еще и зима была на улице — новогодняя ночь. Я когда его вытягивал, моя обязанность была держать его в сознании постоянно. То есть дергать, копошить. У него в перчатке оторвало пальцы. И они остались в перчатке. Естественно, шутили мы над этим: теперь, мол, ногти подстригать не надо. Но врачи в Донецке потом пришили ему эти пальцы назад. Я сам удивляюсь, что так может быть. И они сейчас рабочие. Сам он вернулся домой, к семье. Но он весь в осколках. Их не то что за один раз не удалишь — некоторые капсулируются, ты с ними годами ходишь. Есть такие иголочки — их даже не чувствуешь, они просто на снимке видны. Человек не чувствует, что они есть, а когда на снимок смотришь, он как елка новогодняя. Но только со временем они могут начать вылезать. И тогда очень больно…
Страшно, когда ты первый раз идешь в темноте и начинаешь слышать дрон. Он тебя видит, а ты его нет. В любой момент может так случиться, что идешь-идешь — и нет тебя. Всего один сброс гранаты. Это нечестно. Если бы мы могли договориться, я уверен, что и наша сторона, и их были бы рады отказаться от квадрокоптеров. Потому что жужжащая фигня за 30 тысяч уничтожает танки за десятки миллионов долларов, уничтожает людей целыми группами. «Птичку» могут начинять снарядами с фосфором. Такие врезаются в группы эвакуации. Четыре человека идут с носилками, пятый раненый. И вот такой фосфорный дрон в раненого врезается, и сгорают все, кто несет его. Фосфор — это такой химикат, который невозможно затушить. Он на тебя попал — буквально размером со спичечную головку. И все: он тлеет, разгорается, и получается в итоге в тебе дырка огромная. От шока раньше умрешь. Вот эта птичка несет с собой такую смерть. Подлую.
Не так ужасен вид смерти, как ее запах. К разорванным телам, изувеченным как-то не так относишься. Наверное, потому, что по телевизору показывают все эти боевики, и ты с детства привыкаешь видеть эти картинки: где отрезают что-то, где разрывает кого-то. „ А вот к запаху смерти невозможно привыкнуть. Потому что этот запах… он очень специфический. Мерзко-сладкий до такого, что сразу блевать хочется. Наизнанку выворачивает. Я не знаю, как это работает, но рефлекс моментальный. Это невозможно описать. Сладость эта часами стоит во рту. Любое напоминание сразу вызывает рвоту. Я постоянно удивлялся, когда мы заезжали в морг в Донецке. Ребята, которые там работают, они прямо там и спят. А там дышать невозможно. Они по своей специфике деградировали до такой степени, что этого запаха просто не чувствуют. Привыкли.
Все страхи уже потом приходят. Там в бою адреналин тебе не позволяет страх чувствовать. Адреналин, затем усталость, слабость очень сильная. После этого все, ты садишься, на другого смотришь — он окаменел, у него пустой взгляд, он не может двигаться. Но уже здесь, по возвращении, приходит какое-то эхо. Все уже здесь вылазит. Какое-то осознание потери. Когда начинаешь вспоминать… Какой то испуг. Вплоть до ужаса. Там ты этого не чувствуешь. Там, наверное, психология работает так — какие-то блокировки. А вот здесь хочется в четырех стенах закрыться. И чтобы тебя никто не слышал. Чтобы тебя никто не видел. Какие-то вот наивные желания, как у ребенка, — спрятаться, создать свой домик и сидеть в нем. Но опять же, ты понимаешь, что так нельзя. Ты взрослый человек. И понимаешь из-за чего у тебя такие желания. Ты понимаешь, что они нездоровые. И с этим надо что-то делать. Поэтому начинаешь больше бывать в обществе. Разговаривать с людьми. Не замыкаться в себе. И оно проходит. Замечательно, когда ты стоишь в гипермаркете или в метро. Вокруг куча народа и до тебя никому нет дела. Никаких испугов. Ты понимаешь, что все уже прошло. Всего, что тебе угрожало, — уже ничего нет.
Я к украинским военным никак не отношусь. Я прекрасно понимаю, кем мы для них являемся. Но также понимаю, что было бы, если б они пришли сюда. Поэтому теплых чувств к ним не испытываю. Но и ненависти тоже. Скорее непонимание. Непонимание того, как вдруг братья стали врагами. Ведь мы