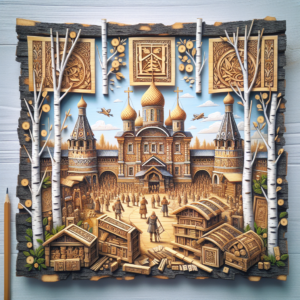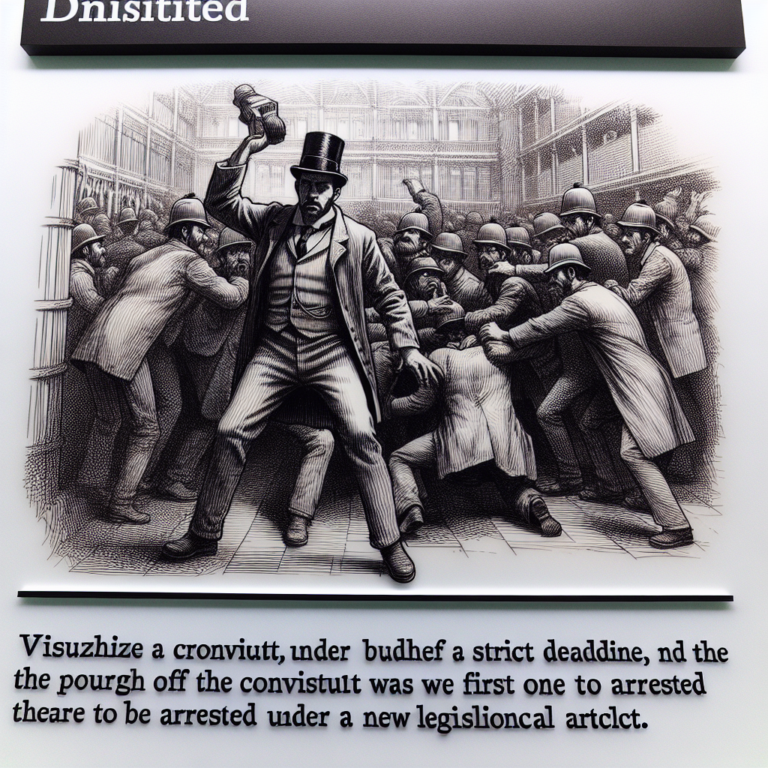Человек живет только в настоящее мгновение. Все остальное или прошло уже, или неизвестно, будет ли. Марк Аврелий
Сегодня — только один из многих, многих дней, которые еще впереди. Но, может быть, все эти будущие дни зависят от того, что ты сделаешь сегодня. Эрнст Хемингуэй
Фото: URA.RU / ТАСС
Последние опросы Лаборатории будущего «Новой газеты», проводимые совместно с «Левада-центром», показали, что все большее количество респондентов сообщает о том, что они испытывают ощущение апатии. Так на вопрос: «Есть ли у вас самих или ваших близких чувство апатии?» — утвердительно ответили 75,2% опрошенных.
Руководитель проекта «Лаборатория будущего» Елена Панфилова отмечает, что в процессе проведения фокус-групп все меньше участников хотят говорить о планах и будущем. Больше, чем у половины наблюдается абсолютное отсутствие интереса обсуждать СВО, и даже то, когда она закончится. В группах молодежи отмечается тенденция к тому, что опрашиваемые охотно делятся хорошими воспоминаниями из прошлого и активно о них рассказывают. Бодро описывают отдаленные мечты о будущем («работаю удаленно, живу у моря, хожу на пляж»). Но при попытках обсудить то, что происходит сейчас и про ближайшее будущее, сразу же теряют интерес.
Мне кажется, что эти результаты пересекаются с данными других исследований. Интернет-проект «МОСТ» и проект «Ковчег» провели опрос 400 человек и выявили такие тенденции, как «молчание и табу» на обсуждение СВО, озабоченность, но одновременное игнорирование причин экономических проблем, амбивалентное и тревожное отношение к будущему после окончания военной операции. По словам руководительницы исследовательской компании КОМКОН Елены Коневой, на длительное время планируют будущее лишь 15–18 процентов россиян.
Что касается нежелания обсуждать политические события в повседневных разговорах, то на сугубо личном опыте сталкиваюсь с этим еще с 2022 г. Особенно после того, как были приняты законы о «фейках». И наблюдаю это же и в настоящее время. Люди совершенно спокойно разговаривают о повседневных делах, шутят, ходят на совместные праздники, но крайне редко или только вскользь упоминают что-нибудь касающееся темы СВО.
И я думаю, для этого есть три банальные причины. Противники СВО знают, что за неосторожное высказывание им грозит административное или уголовное преследование. Сторонники прогосударственной политики боятся случайно взболтнуть чего-нибудь лишнего, что не было санкционировано. А как тут уследишь, все меняется, вдруг брякнешь что-нибудь не то! Особенно заметил это по опыту работы в преподавательском коллективе. И те и другие знают, что такие обсуждения, если выявятся различия в позициях, могут привести к серьезной межличностной напряженности, а кому это надо? Ведь нужно еще как-то друг с другом разговаривать, иметь совместные дела.
Но вернемся к исходному вопросу об апатии. Думаю, что конечно же ни авторы опроса, ни респонденты, когда давали свои ответы, отнюдь не подразумевали ни апатию в медицинском смысле, т.е. как симптом клинической депрессии, ни апатию в том смысле, как ее понимали античные философы-стоики, — как высшую мудрость, проявляющуюся полным освобождением души от всех страстей. Речь скорее идет о том, что называют социальной апатией — т.е. состоянием индивидов и сообществ, возникающее, когда люди чувствуют, что никак не могут влиять на социальную и политическую жизнь.
Однако давайте посмотрим на социальную апатию не только как на социологический тренд, но и рассмотрим ее с точки зрения психологии, т.е. того, какие переживания и мотивации стоят за такого рода поведением, демонстрирующим безразличие к социальным и политическим событиям.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
С психологической точки зрения апатия — это защитная реакция психики, когда человек сталкивается с серьезной фрустрацией своих нужд и желаний. Если я знаю, что все равно не получу желаемого, зачем мне думать об этом? Зачем мне мечтать, если я все равно переживу разочарование? Зачем чего-то хотеть, если это все равно недостижимо? Лучше просто отключить чувства, чтобы вновь не испытывать боль. Зачем мне читать новости, если из этих новостей я все равно ничего хорошего не узнаю и ни на что не смогу повлиять? Зачем что-то писать в комментариях в соцсетях, если политику государства это все равно не изменит и даже на позицию моих оппонентов никак не повлияет? Зачем мне строить конкретные планы на будущее, если я знаю, что в силу ситуации, которая будет длиться неопределенно долго, эти планы все равно не сбудутся?
В определенном отношении, если апатия не слишком сильно выражена, это, может быть, даже неплохо. Она представляет собой естественную анестезию. Защиту от боли, которую причиняет существующая реальность.
В экстремальной ситуации для человека полезно временно снизить чувствительность и сузить горизонт видения, ограничив его тем, что необходимо для выживания прямо сейчас. Психологи даже советуют людям, внезапно попавшим в катастрофические ситуации — природные катаклизмы, боевые действия и т.п., — не заглядывать в отдаленное будущее, а ограничивать планирование лишь завтрашним днем.
Однако, если такого рода «анестезия» затягивается, она может сыграть злую шутку. Привести к реальной клинической депрессии или к тому, что называется синдромом отложенной жизни.
Несколько слов о последнем явлении. Термин «синдром отложенной жизни» появился в психологии в конце 90-х гг. прошлого века, хотя такой жизненный сценарий, видимо, существовал всегда. И в частности, нашел отражение в сказках про сказочного принца.
Основанием для его возникновения стало изучение психологических установок людей, живших на Крайнем Севере, веривших, что «их настоящая жизнь» начнется, когда они заработают достаточно много денег и смогут уехать в «теплые края», например, в Сочи. При этом текущая реальная жизнь воспринималась ими как тягостное безвременье, в лучшем случае, как бесконечная подготовка к той «настоящей» жизни, которая когда-то должна наступить.
Синдром отложенной жизни может касаться множества ситуаций: когда я заработаю достаточно денег, когда подрастут дети, когда выйду на пенсию, когда ситуация в стране изменится и т.д. и т.д.
Я не знаю, как сложилась судьба конкретных людей, которые изучались в том исследовании. Сколько из них уехали с Севера, а сколько остались. Как бы то ни было, такого рода жизненная стратегия имеет свои коварные ловушки. Во-первых, долгожданное «счастливое время» может никогда не наступить, а если и наступит, то уже после нашей жизни. И даже если наступит, то может оказаться очень кратковременным. Или совсем не таким, каким мы его себе представляли.
Если брать исторические аналогии, то краткосрочная так называемая хрущевская оттепель вскоре сменилась брежневскими «заморозками», а для кого-то долгожданной свободе 90-х сопутствовал непрерывный экономический кризис и бандитский беспредел. Кроме того, поскольку мы непрерывно меняемся как личности, получение долгожданно желаемого может уже и не представлять для нас ценности.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Еще одна реакция, касающаяся восприятия будущего, наблюдается у людей, переживающих тяжелое горе. Жизнь разделяется на благополучное или относительно благополучное прошлое, бессмысленное настоящее и отсутствующее будущее.
Безусловно, люди, которые надеялись на демократические преобразования в РФ, привыкли к свободной коммуникации с другими странами, свободному доступу к информации, возможности высказывать свое мнение, верили в гуманистические ценности и позитивную природу человека, доверяли своим соседям, переживают горе.
Возвращаясь к результатам соцопросов, я думаю, что и часть населения, поддерживающая СВО или индифферентно к ней относящаяся, тоже испытывает тревогу — растут цены, ипотечные ставки и проценты по кредитам, планировать что-то трудно. Но думать или тем более говорить об этом не хочется. Тревожно… В опросах не проводилось разделение по социально-политической позиции, поэтому, конечно, четкие различия между разными группами провести трудно.
Но вернемся к тем, для кого ныне происходящее в принципе противоречит их ценностям, взглядам на жизнь и представлениям о том, какой она должна была бы быть. Возникает вопрос, что нам делать, когда наши представления о мире и планы на будущее разрушены и как будто бы нет никакой стабильной опоры, чтобы построить новые?
К сожалению, на это нет никакого универсального ответа, и не только из-за нестабильности нынешней ситуации в стране и мире, но и из-за того, что у каждого человека своя личная ситуация сугубо индивидуальна.
В связи с этим хочу напомнить достаточно известную идею о том, что самое лучшее время для человека — это его настоящее.
Как бы ни парадоксально это звучало, но такой взгляд имеет рациональные основания. Конечно, это вовсе не означает, что наступивший момент не может быть лучше переживаемого сейчас. Вся жизнь состоит из спадов и под