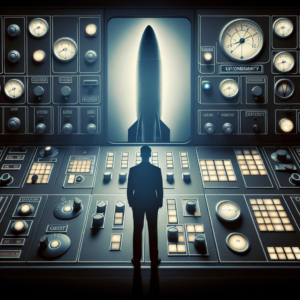Надгробия и памятники на кладбищах — всегда соревнование честолюбий: у кого круче покойник, у кого больше денег, переплавленных иной раз в ростовое изображение ушедшего. Как будто и после смерти нужно мериться значимостью покойного, раздувать и расчесывать «эго» наследников, а не вспоминать, просто вспоминать умершего. Учебно-дидактические тотемы
Так же и с государственной монументальной пропагандой. Она должна быть быстрее, выше, сильнее. Если Иван Грозный в Вологде, то девятиметровый. Чтобы все видели: мы утверждаем в стране опричнину. Главное, что царь — Грозный, и мы тогда — грозные, пусть нас все боятся. И глаза у нас такие страшные — как на картине Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Да, скифы мы… Это памятник-истерика власти. Он же относится к разряду памятников-единых учебников.
Среди учебно-дидактических изваяний — монумент князю Владимиру (если на место его головы поставить верхнюю часть Дзержинского, никто не заметит потери бойца), памятник Жданову в Мариуполе, горельеф с подношением Сталину цветов на станции «Таганская». Надменные, злобные, величественные. «Отлитые в граните». Так не похожие на добрые памятники-игрушки — как Юрию Никулину у старого московского цирка.
Страшных людей следует «отливать в граните» в назидание потомкам, в качестве утверждения величия, мессианства, исключительности. Но почему всегда жестоким, вероломным, маниакальным персонажам достаются мемориальные идолища? Почему столь редко попадаются памятники фигурам менее кровавым, сделавшим что-то доброе? Они, эти памятники, тогда бывают гораздо более талантливыми, как, например, надгробие Никите Хрущеву Эрнста Неизвестного при участии Бориса Жутовского: со смыслом и эмоцией, с внятным посланием — вот был лидер, дела его — черно-белые. Важно, что были белые, вот в чем его исключительность в отечественной истории.
Монументальные месседжи власти — суровые и прямолинейные. Торжественные, как почетный караул из пионеров. Бесталанные, как и сами памятники. Потому что народ надо держать в узде и строгости, на хлебе и воде унылой государственной эстетики. А поклонение таким идолищам — это и есть готовность людей подчиняться тем, кто говорит: «Я знаю, как надо». Цели монументальной пропаганды достигнуты, хотя иной раз бездарность монумента оборачивается каким-нибудь неприличным народным названием. «В застенках безумного режима…»
Живое чувство по поводу мертвых заменятся суровой дидактической монументализацией. Но бывают и попытки лирики, как в идее Вечного огня. Он — традиционная, торжественная, адаптированная под ритуалы поминовения, форма мемориализации жертв войн и геноцидов. Память о великой войне не случайно была зафиксирована в Вечном огне после прихода к власти Леонида Брежнева — это было то, что подкрепляло его легитимность как вождя (ветеран и победитель), то, что было единственным безукоризненным клеем нации, поважнее марксизма-ленинизма.
Однако Вечный огонь — они, власти, сами того не понимали — напоминание о безразличии военачальников к солдатам, готовности «тратить» их так, что они в результате остаются неизвестными. А надо бы, чтобы становились известными, с именем и фамилией. Это в некотором смысле памятник самооправданию жестокой и равнодушной власти.
Когда мемориал в Александровском саду только строился, Александр Твардовский записал в своем дневнике горькие мысли (5 декабря 1966-го): «…Неоспоримо, священно право павших в войне за родину на память… Правда, и в этом во всем немалая примесь «воспитательной политики», государственного соображения по руководству настроениями «масс»… вроде организованной на днях могилы неизвестного солдата — не дай бог ему оказаться… солдатом известным — лишние хлопоты, подобно тому, как совершенно некстати 5 или 6 из 28 [панфиловцев] оказались живыми». Твардовский пишет о крушении мифов, которые не было принято ставить под сомнение — возникал скандал. Но в результате миф и заменял действительность и в нетронутом виде перетекал из одной эпохи в другую. Пережив даже эру возвращения правды в конце 1980-х — начале 1990-х. Запись Твардовский сделал тогда, когда военная цензура не пропускала в «Новом мире» дневники Константина Симонова 1941 года; когда под ударом оказался автор журнала Александр Некрич со своей честной книгой о начале войны; когда Александр Трифонович прочитал рукопись «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова и понял, что не пробьет роман через цензурные и пропагандистские органы.
И дальше он пишет: «Но как быть с памятью тех, что были лишены возможности заслужить ее знаки, общенародное внимание к ней?… ни одна армия в мире никогда ни в какой войне не имела таких потерь в комсоставе, какие понесла наша армия накануне войны и отчасти после войны. Как быть с этой памятью… Такой же памяти, как эти последние, заслуживают, несомненно, и те, что погибли в канун войны и во время войны не на войне, а в тюрьмах и лагерях, в застенках безумного режима…»
«В застенках безумного режима» — вот простая и исчерпывающая характеристика сталинизма. А брежневский режим был моделью баланса: с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, Сталина не реабилитировали (в 1979-м была дискуссия среди первых лиц, как отмечать столетие — тогда считалось, что он родился в 1879-м, — без статьи в «Правде», со статьей в «Правде», а если со статьей, то что писать, — написали невнятицу); с другой, в официозных кино и литературе он появлялся отнюдь не в устрашающем образе, успешно стал знаменем тех, кто давил в стране любую фронду и просто проявления человечности. А в июне 1970-го поставили памятник над могилой Сталина у кремлевской стены. Той самой, куда его еще сравнительно недавно тайно, ночью, выносили из мавзолея. Памятник для своих, в сторонке, но и с напоминанием — дело его живет и заслуживает уважения. А тело источает ядовитую радиацию — сквозь надгробную плиту, сквозь каменный памятник. Холодное пламя
Семантика камня. Война камней. Каменный Сталин у Кремлевской стены скульптора Николая Томского, набившего руку на многочисленных лениных, кировых и сталиных, против Соловецкого камня, который режет глаз яростным сторонникам режима. Камень — едва ли не последнее, что осталось у его противников: все понимают «избирательное сродство» двух персонажей политической истории — прежнего и сегодняшнего лидеров. Камень был поставлен у Бабьего Яра — с обещанием возвести памятник трагедии еврейского народа. Точнее, как тогда полагалось определять, граждан Советского Союза — без учета национальности. Но хотя бы какой-то. Произошло это после скорбного собрания, которое переросло в митинг в сентябре 1966-го, на котором выступили Виктор Некрасов, отчаянный борец за память о жертвах Бабьего Яра, и Иван Дзюба, потом заклейменный как украинский националист.
У Некрасова, участника и бытописателя Сталинградской битвы, были непростые отношения с памятниками. Он пребывал в ужасе от пафосного проекта мемориала в Волгограде, но кто же его слушал — брежневской системе нужно было утопить все мелкие чувства и горести в каменном мегаломаническом величии, замести под ковер человеческие кости, которые годами лежали в былых окопах, и никого это не волновало. И Виктор Платонович принял этот мемориал как место памяти, посетил и Вечный огонь, и мемориальную плиту генералу Батюку. Однажды сел под Родиной-матерью выпивать в память павших с однополчанином и был пристыжен милиционером. Которому, впрочем, рассказали, что под левой рукой монумента у этого мужика с усиками был их блиндаж, и не пойти ли ему, стражу порядка, отсюда. Устыдился и пошел…
Прошло несколько лет. И в соответствии с приказом Главлита книги Некрасова, в том числе «В окопах Сталинграда», были изъяты из библиотек… Словом, если некуда прийти скорбеть, остается использовать монументы, поставленные властями. По примеру Виктора Платоновича Некрасова. Но скорбеть совершенно невозможно в Парке Победы. Это новая модель мемориализации. Никакой горечи, никакой трагедии, только обидчивый и заносчивый триумфализм, опошляющий историческую память, которая еще теплится, еще ощущается в том же Вечном огне. Он образует хотя бы какую-то связь времен, хотя для новых поколений и для тех во власти, для кого это предмет политических спекуляций, — это давно холодное пламя.
Я возвращаю ваш портрет
«Мои желания скромны. Портреты главы правительства своими размерами не должны превышать почтовую марку. Никаких пыток и казней». С этим фрагментом из Владимира Набокова мне довелось познакомиться лишь несколькими годами позже, после того как я тащил на себе на ноябрьской демонстрации портрет как