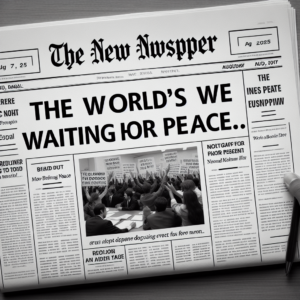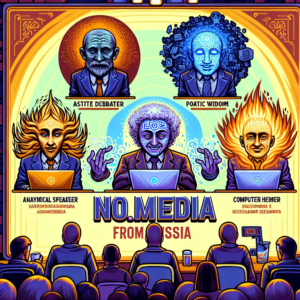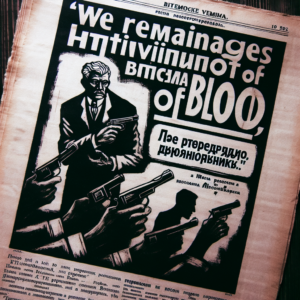XXVIII Петербургский международный экономический форум. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.
Экономика в минорных тонах
Главная экономическая сессия на Петербургском международном экономическом форуме, которую традиционно модерирует глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, прошла в довольно минорных тонах.
Если на предыдущих Форумах руководители экономического блока (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов) обменивались комментариями в стиле «все хорошо» — «нет, все гораздо лучше», то сейчас начальники решили посоревноваться в пессимизме.
В начале дискуссии Макаров спросил ее участников, как назвать то, что происходит с российской экономикой, — охлаждение или рецессия. «По цифрам у нас сейчас охлаждение как бы, да, — сказал Максим Решетников. — Но все наши цифры — это зеркало заднего вида.
А вот по текущим ощущениям бизнеса […] мы, в общем, уже, ну, как бы, мне кажется, на грани перехода в рецессию». «Ну сейчас, я бы сказал, похолодание. А за похолоданием всегда приходит лето», — парировал Антон Силуанов.
Эльвира Набиуллина назвала ситуацию «выход из перегрева». «У нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала, оттуда были и перегрев, и инфляция».
Последние годы российская экономика росла за счет того, что задействовала все возможные трудовые ресурсы, замещала ушедший западный бизнес и наращивала инвестиции за счет бюджета, ФНБ и ускоренного кредитования, объяснила глава финансового регулятора, согласившись, что многие из этих ресурсов действительно уже исчерпаны.
Оценку главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что Россия находится на грани рецессии в разговоре с РБК прокомментировал бизнесмен Аркадий Ротенберг, один из немногих миллиардеров, принявших участие в ПМЭФ. «Я не могу сказать, что времена такие легкие, что мы сегодня на коне, но стараемся, находим определенные пути, в этих условиях выживаем».
По словам Ротенберга, его компании «были неплохо проинвестированы в предыдущие годы».
Отвечая на вопрос, чувствует ли он охлаждение экономики, Ротенберг сказал, что такой тренд есть. По его словам, это не очень хороший фактор для бизнеса, но «если для экономики страны это положительный вариант, то тогда будем смиряться».
С тезисом об исчерпанности модели роста согласен и сам председатель оргкомитета ПМЭФ Максим Орешкин, накануне форума выступивший в журнале «Эксперт» с программным интервью.
Максим Орешкин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.
«[Экономический] рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала.
Сколь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».
На основе пессимистических комментариев руководителей российской экономики делается много выводов — например, о том, что правительство все понимает, и, возможно, скорректирует свою политику и выйдет на следующую организационную ступень, но…
Советы нобелевского лауреата …на мой взгляд, дискуссия эта говорит только о том, что начальство знает, что такое «модель роста Солоу», и может ее пересказать в применении к российским реалиям.
Кто не знает, Роберт Солоу объяснял, что обеспечить постоянный экономический рост на основе накопления физического капитала (условно, ставя в ряд 100 500 станков) — невозможно. Да, само по себе увеличение количества станков, «заводов/пароходов», инфраструктуры — на первых порах даст рост (увеличение выпуска продукта).
Но как только экономика упрется в «ограничение по труду» (или в другие ресурсные ограничения), то каждый следующий установленный станок будет создавать все меньше дополнительного продукта.
При этом от второго станка меньше проку, чем от первого, от десятого меньше, чем от пятого станка, и так далее. Это называется уменьшение отдачи от масштаба.
И да, Роберт Солоу объяснял, что дальнейший рост должен строиться на чем-то таком, что не обладает убывающей отдачей от масштаба (технологии, инновации, открытия — в общем, люди должны что-то придумать).
Совет нобелевского лауреата по экономике хорош, но проблема в том, что развитие и внедрение инноваций требует накопления человеческого капитала, а такая штука не делается по команде.
Серьезные научные и технологические прорывы — результат длительного процесса накопления навыков и знаний, а фундамент тех или иных инноваций закладывается задолго до того, как эти инновации входят в нашу жизнь.
Например, российские власти преуспевают в создании механизмов контроля за информационным пространством и строительством «файерволла», который рано или поздно отсечет Рунет от Всемирной сети, но эти технические решения создаются благодаря работе тех же самых команд программистов, которые создавали Рунет, и в некоторых аспектах действительно были (и остаются) «впереди планеты всей».
А вот просто так — создать по щелчку пальцев открытие, которое даст толчок всей экономике, — нельзя.
Конечно, логика строительства «закрытого информационного пространства» понятна, но это все-таки не гарантия научных и технологических прорывов.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ.
Начальство это прекрасно знает, так же как и то, что преодолеть ограничения по ресурсам и капиталу на макроуровне можно двумя способами.
Первый способ — привлечь капитал извне, но… Для этого вам надо будет поступиться принципами и властью, и идти этим путем готовы не все начальники. Они уже убедились, что никакой значимый капитал за последние три года в РФ не пришел, новые покупатели российских ресурсов готовы предложить в обмен на нефть ширпотреб и технику собственного производства и помочь в обходе внешнеторговых ограничений, но не более того.
А если не получается привлечь капитал, то на макроуровне вам надо повысить норму прибыли бизнеса, что расширит возможности инвестирования/ускоренного развития т.н. торгуемого сектора (производящего товары с высокой добавленной стоимостью). Но для этого вам надо будет снизить цену труда с поправкой на производительность, т.е. снизить Unit Labor Costs (ULC) — затраты на рабочую силу для производства единицы товара (нет капитала — значит, нажимаем на труд).
То есть фактически вам придется снизить/задержать рост уровня жизни населения.
Проблема в том, что люди могут не захотеть терпеть, пока бизнес «накопит и инвестирует», тем более этого может и не произойти вообще.
Правда, если у вас есть дорогая нефть, то ситуация выглядит лучше — доходы от нефти станут эквивалентом капитала: вы просто купите за границей то, что не можете произвести сами (не только товары, но и средства их производства).
Но, опять же, «нефтяной картой» нужно успеть сыграть, потому что приток нефтедолларов, прежде чем «переплавиться» в инвестиции и стать капиталом, толкнет вверх уровень потребления, в первую очередь уровень потребления элиты, что не может не вызвать недовольства всех, кого к распределению ренты не допустили.
Собственно, это ситуацию мы уже наблюдали. Ну а если избытка дорогой нефти уже нет и капитал привлечь не получается — остается рассчитывать на расходы правительства, которое каким-то образом перераспределит ресурсы или найдет деньги.
Дело не в деньгах? Но и с правительственными деньгами не все так просто, об этом на «деловом завтраке» Сбера в рамках ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, днем раньше модерировавший главную экономическую сессию Форума.
«Потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно. А у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — подчеркнул Макаров.
По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Макарова, без государственного импульса решение проблем невозможно, но и постоянно увеличивать расходы бюджета также возможности нет.
По данным Минфина, ликвидные активы Фонда национального благосостояния, за счет которых закрывался бюджетный дефицит, за три года сократились втрое и на 1 июня опустились до 2,8 трлн рублей.
«Не может государство постоянно финансировать. Национальные проекты увеличиваются в деньгах, не могут постоянно расти государственные расходы. Без того, чтобы завести вот этот механизм участия частного бизнеса, система не полетит», — сказал Макаров.
Однако бизнес практически не участвует в проектах, от которых правительство ждет ускорения экономического роста и технологического прорыва. Бизнес в свою очередь кивает на высокие ставки по кредитам и проблемы с защитой частной собственности.
«Высокая стоимость кредитования» — главный вызов, стоящий перед российской экономикой в следующем году, судя по результатам опроса, проведенного во время бизнес-завтрака Сбера на ПМЭФ среди участников завтрака и зрителей трансля