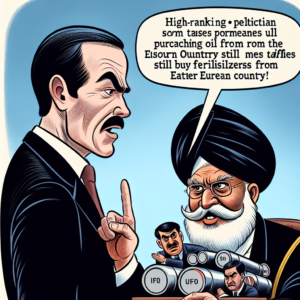Фото: Александр Черных / Коммерсантъ.
Предисловие к монологам солдат в русской — да какой бы то ни было — газете кажется бессмысленным. Что вообще можно обсуждать на четвертом (уже скоро) году? Что еще кому не ясно? Проклинать кого-то — власть, народ? Жалеть — украинцев, россиян?
«В России так же жалеют человека, как трамвай жалеет человека, через которого он переехал. В России нечего кричать. Никто не услышит» (В. Розанов).
Россия сейчас — именно что чугун на тоскливом февральском ветру. Тяжеленный и хрупкий. С неслышным внутренним гулом. Россия — это наша страна. В ней, с ней, вот такой, предстоит жить дальше. Плуг не останавливается из-за мертвецов. Жизнь будет длиться, пусть и состоит все больше из чередования ужаса и кошмаров (ну, если отвлечься от частных радостей).
Мы не знаем точно, сколько погибло. А сколько раненых и покалеченных? Пожалуй, что и все. Даже кто этого не осознает, кто вообще не думает об этом.
Субботнее утро, дворовый проезд в центре города. Повез ребенка на предметную олимпиаду. Под колеса бросается парень в камуфляже. Торможу, он упирается мне в капот, обходит и останавливается у моей двери. Опускаю стекло, вижу — запаха нет — стеклянные глаза солевого.
Из слов понятно только: «Наши пацаны там». Стекло поднимаю, он начинает бить в него кулаком. Понимаю: следующий удар стекло обрушит. Еду дальше: дорога узкая, и как раз притормаживает встречный джип BMW, «пацана» зажимает и прокручивает между нашими бортами, он, видимо, и не понял, что продолжил лупить уже в окно джипа. Или ему все равно.
Разбил его или нет, но в зеркало заднего вида вижу, как из BMW выходят и бьют уже «пацана». Что он хотел мне сказать? Что «наши пацаны» там погибают, а вы тут, умытые и побритые, детей на олимпиады возите? Так начинали возвращаться первые вагнера. Ничего похожего на возвращение «афганцев» или «чеченцев»: тех в полевой форме не мотало по улицам, как в шторм отвязавшиеся корабельные пушки, не стояли они на перекрестках и во дворах, руки в боки, не было у них ощущения вседозволенности (сейчас о тенденциях, не о частностях).
И гробы с «афганцами» не выставляли для прощания в школах и ДК, хоронили тихо. Впрочем, впечатление быстро росшей параллельной системы власти — с флагами ЧВК в самых неожиданных местах и кувалдой, забрызганной мозгами, как символом наступившего будущего — столь же быстро стушевалось. Система контролирует несистемных.
В это же время старший сын заканчивал ночное дежурство в больнице. Потом без подробностей расскажет: „до шести утра пришивал руку тувинцу-отпускнику — прилетел из Украины, транзитная остановка, вечером привезла скорая с пометкой «суицид». Правая рука в плече, по сути, отрублена. Все связки, сосуды, нервы. Но кость, хоть и пострадала, целая.
Руку бы ампутировали без слов, уже приготовили, сын вызвался пришить. И все сделал по своей части (сосудистого хирурга), все пульсирует, сдал неврологам — те дали хороший прогноз. (Потом бойца увезут на родину, дальнейшая судьба неизвестна, но факт: рука на месте, однако в строй если и вернется, то нескоро.)
Психиатр его смотрел: никаких суицидальных наклонностей. Сам говорит: был пьян, курил кальян, упал на стеклянный стол. Осколков меж тем в ране не было, стекло режет иначе, и рана нанесена сверху вниз, а не наоборот. Впечатление, что рубили. Причем не топором (разруб иной), а саблей.
В общем, что-то особое со стеклами у возвращающихся. Себя там видят, нас? А какая разница? В Украине у них, как в одном из монологов прочитаете, «конфликт весь с зеркалом или даже с самим собой». И здесь то же. Они подчеркивают: «Мы — часть вас».
Фото: Олег Елков / ТАСС.
Помните «Трех товарищей» Ремарка? О дружбе, любви, последних бумажных романтиках, вернувшихся из окопов Первой мировой, с Западного фронта?
В 1928–1929 годах, когда мы их видим, им около 30, и они, безусловно, подлежали тотальной мобилизации и во Вторую мировую, ну или их забрали на фронт из тюрем. Они, как мы помним, были не рады грядущей нацистской диктатуре.
И вот, когда мы им сопереживаем, мы же не думаем о том, что они будут делать на Восточном фронте, на нашей родине? Это те самые немцы, что станут коллективным Гитлером, так? „ А не случись этого — какие прекрасные люди; продолжали б крутить гайки, гонять, любить, дружить, заводить часы, читать газеты, дарить цветы, выпивать.
Вот и эти солдаты, чьи монологи перед вами. Мука это читать. А сколько таких историй, таких жизней — мы уже не узнаем, потому что голоса из-под земли не слышны… Хорошо еще, что не так уж много они повторяют за телевизором, что в основном говорят о себе и свое.
И еще хорошо, что у них, как это и бывает в катастрофе, срабатывает инстинкт самосохранения, и их память теперь, очевидно, выборочная, дискретная, вспышками.
А тоже ведь могли бы дарить цветы без записок, летом рыбу удить и чай пить, а зимой бурить лунки, удить рыбу и пить чай.
Невозможно отождествлять действия СССР и нацистской Германии, те режимы и времена — дело даже не в том, что это запрещено законом, а в том, что СССР и Германия действительно не сравнимы ни целями, ни методами и практиками, ни повседневностью.
И «Три товарища» — времена донацистские, Веймарской республики. И, как вы понимаете, сейчас не о политике, не о режимах, не о фабульной канве — исключительно о душах. Лирика. Не Сталин и Гитлер, а Ганс и Иван. Или три товарища — «Кот», «Немец», «Енот» (о них — в монологах).
Поздний Нагибин писал: «[слово, запрещенное нам], как говорил Швейк, занятие для маленьких детей, я же пишу о серьезном, о жизни человеческого сердца». Здесь — о биологии, если угодно.
О более древнем, чем политика и режимы. Как там, в «Трех товарищах»: «Мне было все безразлично, лишь бы быть живым».
Злодеи посписочно — хорошая идея, но зло не в конкретных душах, зло разлито по миру, и механизм деградации, как и развития, встроен в нас во всех, и даже спокойные сытые времена уготавливают и налаживают пути для насилия и катастроф.
Более того, такие сытые, размеренные времена сами по себе есть уже причина для неврозов, их основа.
Они несовместимы с инстинктами, о которых говорят солдаты в мучительных монологах. Раньше христианство помогало, а сейчас? Компьютерные игры? Деньги?
Пехота неподсудна, и уж точно не с этой стороны давать оценки. Да и толку в любых оценках: пехоту перемалывают, убивают и калечат.
Заметьте: неподсудны и обыватели, вся эта массовка, весь этот фон, для кого теперь песню Окуджавы из «Белорусского вокзала» поют Шаман и Ко. Ну или те, еще одна Россия, кто сейчас спокойно и рационально рассуждает про воюющее «зэчьё», о решении своих проблемы за счет страдания других, надо бы продолжать, пока «не достигнуто» то, о чем мечтают те, кто не в окопах…
Это не эльфы решают за орков. И это не элои России ищут управу на шариковых, на морлоков (что можно было бы понять — морлоки их сожрут).
Нет, сюжет проще. Это обычное обывательское расчеловечивание. Оно — не за лентой, не на линии соприкосновения, а в этом бесчувствии.
И эта катастрофа произошла задолго до 24 февраля, всё, что потом было и еще будет, — лишь следствие.
И почему-то можно представить очень далекое будущее, в котором за одним столом сидят, пьют, разговаривают и смеются выжившие «штурмовики» с обеих сторон, но невозможно — стол с теми, кто «тёпл, а не горяч и не холоден».
Им, как и обещано, — отвержение. Впрочем, они и это переживут.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ.
Пехота неподсудна, но нельзя игнорировать принципиальное: эти люди — контрактники, не срочники и не мобилизованные. Ну и какой тут Ремарк, «Три товарища»?
Да, дееспособные взрослые мужчины обязаны отвечать за свои действия, на этом стоит мир. Вопрос лишь в том, взрослые ли они и дееспособные ли, могут ли они быть такими, если их знания о мире состоят из пропаганды?
Человек с ложными представлениями об окружающей действительности опасен и для этой действительности, и для себя.
Впрочем, обобщения здесь ни к чему, они теперь просто бессмысленны.
Плуг не останавливается, сколько бы народу ни полегло. И тем, кто выживет, вести плуг в одной стране с новыми ветеранами.
В одной России всегда жили несколько Россий, и далее будет то же. И многолетняя фрустрация, накопление комплексов — к уже имевшимся. Ничего не исправить. И никого не ожив